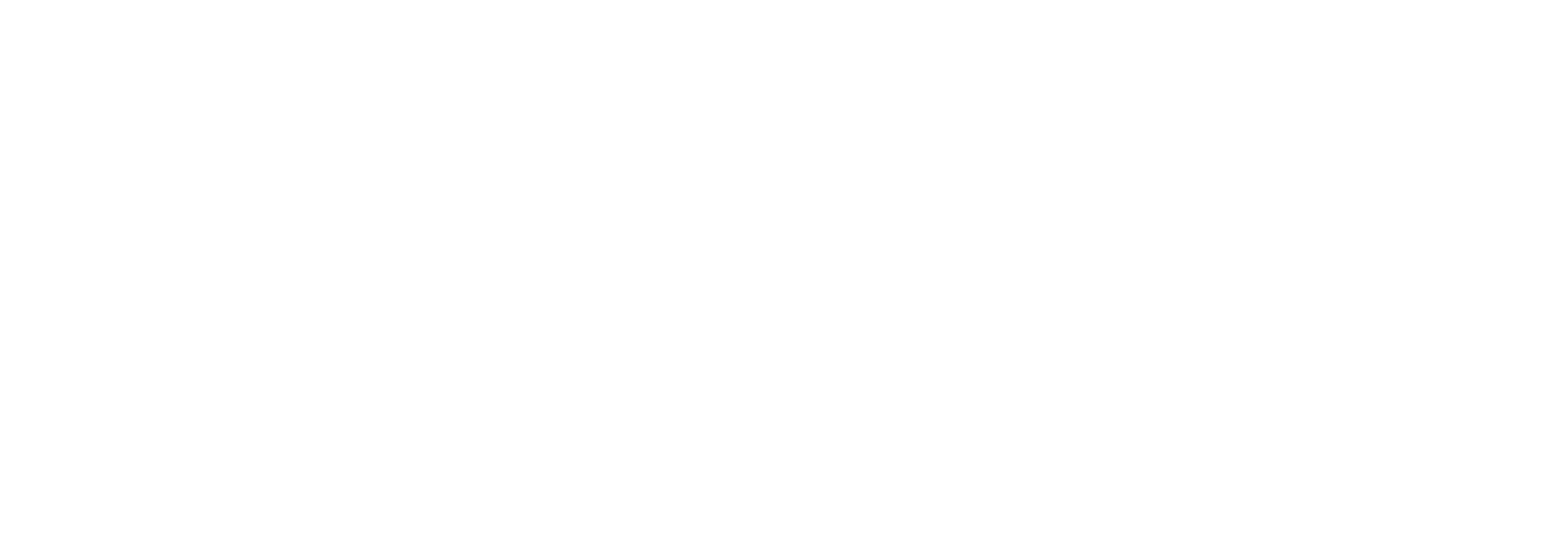МИХАИЛ КОРОБКО
ВОРОНЦОВО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ



После эвакуации из блокадного Ленинграда Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института (ВНИВИ) в конце 1942 года в усадьбе была организована Воронцовская центральная биологическая станция[1], которой были переданы южный флигель и часть территории усадебного парка под питомник. На территории усадьбы в «запрудной части» был устроен питомник: заложены плантации облепихи (1945-1959) и шиповника. В усадьбе Воронцово впервые в мировой практике были выведены сорта шиповника плоды, которых содержат витаминов в 2-3 раза больше, чем дикорастущие исходные формы (сорта Витаминный, Воронцовский, получивший свое название по усадьбе, и Крупноплодный).
Поскольку до конца войны ВНИВИ не имел собственного здания, то он находился на территории Воронцовской биологической станции и в помещениях институтов, эвакуированных из Москвы[2].
Со временем совхоз перестал быть самостоятельным и превратился в опытное хозяйство совхоза «Коммунарка», расположенного южнее по Калужскому шоссе (Троицкий и Новомосковский округа). Это было связано с расширением столицы и включением Воронцова в 1960 году в городскую черту и застройкой его юго-западной части, по которой в 1962–1963 годах была проложена улица Новаторов.
После ликвидации опытного хозяйства некоторые усадебные постройки в 1979 году были сданы в аренду под конторские помещения специализированному предприятию «Ремэнергомеханизация» Министерства энергетики и электрификации СССР. Позднее «Ремэнергомеханизация» стала основным арендатором памятников архитектуры в Воронцове.
Территория усадебного парка в 1983 году была передана на баланс и в эксплуатацию Управлению лесопаркового хозяйства Мосгорисполкома и находилась в ведении одного из филиалов объединения Мослесопарк. В конце 1980-х годов в усадьбе проводились реставрационные работы.
Впоследствии совхоз перестал быть самостоятельным и превратился в опытное хозяйство совхоза «Коммунарка», расположенного южнее по Калужскому шоссе (ныне т.н. Новая Москва – Троицкий и Новомосковский округа)[3]. Это связано с расширением столицы, включением Воронцова в городскую черту в 1960 году и застройки его юго-западной территории. на которой находился регулярный сад.
В память о событиях военных лет и Отечественной войне в 1812 года в центра парадного двора усадьбы Воронцово в 2014 году был установлен обелиск – памятник «Защитникам земли Российской».
[1] См.: Камшилов Н.А. Справочник садовода-любителя. – М., 1957. – С.208.
[2]ЦГАТО ОКД СВАО. Ф. СЗ-389. 18 апреля 1960 г. приказом Министерства здравоохранения СССР Воронцовская биостанция была передана Опытному производству витаминов.
[3] ЦАНТДМ Ф. 41. Д. 2618. Л. 12. Коммунарка, как Воронцово была совхозом ОГПУ-НКВД-МВД.
Поскольку до конца войны ВНИВИ не имел собственного здания, то он находился на территории Воронцовской биологической станции и в помещениях институтов, эвакуированных из Москвы[2].
Со временем совхоз перестал быть самостоятельным и превратился в опытное хозяйство совхоза «Коммунарка», расположенного южнее по Калужскому шоссе (Троицкий и Новомосковский округа). Это было связано с расширением столицы и включением Воронцова в 1960 году в городскую черту и застройкой его юго-западной части, по которой в 1962–1963 годах была проложена улица Новаторов.
После ликвидации опытного хозяйства некоторые усадебные постройки в 1979 году были сданы в аренду под конторские помещения специализированному предприятию «Ремэнергомеханизация» Министерства энергетики и электрификации СССР. Позднее «Ремэнергомеханизация» стала основным арендатором памятников архитектуры в Воронцове.
Территория усадебного парка в 1983 году была передана на баланс и в эксплуатацию Управлению лесопаркового хозяйства Мосгорисполкома и находилась в ведении одного из филиалов объединения Мослесопарк. В конце 1980-х годов в усадьбе проводились реставрационные работы.
Впоследствии совхоз перестал быть самостоятельным и превратился в опытное хозяйство совхоза «Коммунарка», расположенного южнее по Калужскому шоссе (ныне т.н. Новая Москва – Троицкий и Новомосковский округа)[3]. Это связано с расширением столицы, включением Воронцова в городскую черту в 1960 году и застройки его юго-западной территории. на которой находился регулярный сад.
В память о событиях военных лет и Отечественной войне в 1812 года в центра парадного двора усадьбы Воронцово в 2014 году был установлен обелиск – памятник «Защитникам земли Российской».
[1] См.: Камшилов Н.А. Справочник садовода-любителя. – М., 1957. – С.208.
[2]ЦГАТО ОКД СВАО. Ф. СЗ-389. 18 апреля 1960 г. приказом Министерства здравоохранения СССР Воронцовская биостанция была передана Опытному производству витаминов.
[3] ЦАНТДМ Ф. 41. Д. 2618. Л. 12. Коммунарка, как Воронцово была совхозом ОГПУ-НКВД-МВД.
В госпитале нас тщательно обследовали, после чего вручили запечатанный конверт, содержания которого мы не знали. На обратном пути нас то и дело останавливали патрули и проверяли документы. Возвратились мы поздно вечером. Командир батальона Комиссаров, прочитав содержимое пакета, заявил, что я демобилизован, и приказал завтра сходить на мою московскую квартиру, переодеться в свою одежду, возвратиться в Воронцово, сдать в кладовую казенное обмундирование и распроститься с батальоном навсегда.
Я пошел в хату, куда переселился из блиндажа, забрался на печь, где спал, и стал думать, какие мне сюрпризы готовит судьба. Сон бежал от меня. Вдруг я услышал шум самолета, а тотчас же раздался страшный взрыв, потрясший хату, а за ним второй. Стены задрожали, с потолка что-то посыпалось, но хата устояла. В конце концов я все-таки уснул.
Когда я утром вышел на улицу, я понял, что произошло ночью. Видимо, подбитый вражеский самолет беспорядочно сбрасывал свой бомбовый груз. Одна бомба попала в дом через улицу и убила получившего кратковременный отпуск из армии хозяина, его жену и маленького ребенка, а другая попала в сарай, где стояли мои подопечные, четыре лошади, и всех убила»[1].
Крупная вырубка, произведенная в 1941 году в усадебном парке была обусловлена нуждами военного времени. Её провели красноармейцы 329-го зенитного артиллерийского полка 2-й артиллерийской бригады 1-го корпуса ПВО Москвы расквартированного в окрестностях Воронцова. Они также срезали верхушки у некоторых деревьев[2].
Кроме того, Воронцово было защищено с воздуха. В 1941–1943 годах в его районе проходила вторая полоса заграждений 9-го воздухоплавательного полка аэростатов заграждения (по дуге: Татарово, Кунцево, Раменки, Воронцово). Она усиливала воздушные заграждения в черте самой Москвы. Из за этого для размещения зенитных оружий была вырублена часть усадебного парка.
[1] Иоселевич Л.Е. Воспоминания. – Частное собрание (Москва).
[2] Коробко М.Ю. Усадьба Воронцово. М., 2018. С. 46-48.
Я пошел в хату, куда переселился из блиндажа, забрался на печь, где спал, и стал думать, какие мне сюрпризы готовит судьба. Сон бежал от меня. Вдруг я услышал шум самолета, а тотчас же раздался страшный взрыв, потрясший хату, а за ним второй. Стены задрожали, с потолка что-то посыпалось, но хата устояла. В конце концов я все-таки уснул.
Когда я утром вышел на улицу, я понял, что произошло ночью. Видимо, подбитый вражеский самолет беспорядочно сбрасывал свой бомбовый груз. Одна бомба попала в дом через улицу и убила получившего кратковременный отпуск из армии хозяина, его жену и маленького ребенка, а другая попала в сарай, где стояли мои подопечные, четыре лошади, и всех убила»[1].
Крупная вырубка, произведенная в 1941 году в усадебном парке была обусловлена нуждами военного времени. Её провели красноармейцы 329-го зенитного артиллерийского полка 2-й артиллерийской бригады 1-го корпуса ПВО Москвы расквартированного в окрестностях Воронцова. Они также срезали верхушки у некоторых деревьев[2].
Кроме того, Воронцово было защищено с воздуха. В 1941–1943 годах в его районе проходила вторая полоса заграждений 9-го воздухоплавательного полка аэростатов заграждения (по дуге: Татарово, Кунцево, Раменки, Воронцово). Она усиливала воздушные заграждения в черте самой Москвы. Из за этого для размещения зенитных оружий была вырублена часть усадебного парка.
[1] Иоселевич Л.Е. Воспоминания. – Частное собрание (Москва).
[2] Коробко М.Ю. Усадьба Воронцово. М., 2018. С. 46-48.
Показался мне подозрительным также один из наших товарищей (фамилии не помню). Невысокого роста, всегда аккуратно одетый, он тщательно выполнял все военные упражнения, был вежлив и очень сдержан. Однажды мы наблюдали воздушный бой, во время которого был сбит немецкий самолет. Когда в этот момент мой товарищ по блиндажу Губин взглянул на бойца, о котором идет речь, ему показалось, что того немного передернуло. Губин мне об этом сказал. Тогда и я сказал Губину о своих сомнениях. А через некоторое время он мне сообщил, что подозрения подтвердились.
Началась новая жизнь. Она была очень тяжелой, но, как это не странно, дерганий было меньше. Не было истошного воя сирен, отпала надобность в поиске телефона-автомата (в Воронцове их не было), не слышно стало зениток. Оставалось лишь копать, копать, копать и думать, чем порадует полевая кухня.
После ранних заморозков потеплело. Село утопало в грязи. Но мы к ней привыкли. Пока не были готовы блиндажи, ночевали на полу в хатах. Из-за тесноты приходилось спать на боку. Раза два нас ночью поднимали по тревоге. Только уляжешься, как стук в окно. Прибежавший из штаба боец передает приказ: «В окопы в полном боевом снаряжении, немец прорвался!» Но его останавливали до нас, и мы опять шлепали по грязи к нашим хатам. Когда блиндажи были готовы, мы переселились в них. Сильно досаждали вши.
Однажды я слегка повредил ногу и остался в хате. Не пошел также в окопы солдат Вареник, которому были даны какие-то задания по его специальности. Вареник принес обед на двоих, и мы уселись за стол. Внезапно раскрылась дверь и вошел какой-то мужичок в поношенной шинели. Видимо, встреча с нами его неприятно удивила, но он овладел собой и поздоровался. Нам он показался подозрительным, и мы стали его расспрашивать, кто он такой, откуда и куда идет. Ответы его укрепили наши подозрения. Вареник, переглянувшись со мной, взял винтовку, приказал мужичонке выйти из хаты, пошел за ним и доставил его в штаб. На следующий день он спросил у политрука, основательными ли оказались наши подозрения. «Самый настоящий шпион», - ответил политрук Шадрин.
После ранних заморозков потеплело. Село утопало в грязи. Но мы к ней привыкли. Пока не были готовы блиндажи, ночевали на полу в хатах. Из-за тесноты приходилось спать на боку. Раза два нас ночью поднимали по тревоге. Только уляжешься, как стук в окно. Прибежавший из штаба боец передает приказ: «В окопы в полном боевом снаряжении, немец прорвался!» Но его останавливали до нас, и мы опять шлепали по грязи к нашим хатам. Когда блиндажи были готовы, мы переселились в них. Сильно досаждали вши.
Однажды я слегка повредил ногу и остался в хате. Не пошел также в окопы солдат Вареник, которому были даны какие-то задания по его специальности. Вареник принес обед на двоих, и мы уселись за стол. Внезапно раскрылась дверь и вошел какой-то мужичок в поношенной шинели. Видимо, встреча с нами его неприятно удивила, но он овладел собой и поздоровался. Нам он показался подозрительным, и мы стали его расспрашивать, кто он такой, откуда и куда идет. Ответы его укрепили наши подозрения. Вареник, переглянувшись со мной, взял винтовку, приказал мужичонке выйти из хаты, пошел за ним и доставил его в штаб. На следующий день он спросил у политрука, основательными ли оказались наши подозрения. «Самый настоящий шпион», - ответил политрук Шадрин.
А мы продолжали свой путь, не зная, куда идем. За городом мы встречали крестьянские подводы с женщинами, стариками, ребятишками и домашним скарбом, а сзади понуро брели привязанные за рога коровы. Они убегали от немцев. К вечеру мы дошли до села Воронцова на Нарофоминском направлении. Бессонная ночь накануне и длительный переход с вещами нас измотали. Получив неприхотливый ужин из полевой кухни, мы разбрелись кто куда.
Утром начальство попыталось навести кое-какой порядок. Нас рассовали по избам, из которых некоторые в панике были брошены хозяевами, оставившими много вещей, и послали рыть траншеи. «Скорей, скорей, - торопили нас, - немец близко!» С этого времени Тимирязевский истребительный батальон перестал существовать, влившись сперва в 51-ю пехотную, а потом в 158-ю Лиозно-Витебскую дивизию.
Утром начальство попыталось навести кое-какой порядок. Нас рассовали по избам, из которых некоторые в панике были брошены хозяевами, оставившими много вещей, и послали рыть траншеи. «Скорей, скорей, - торопили нас, - немец близко!» С этого времени Тимирязевский истребительный батальон перестал существовать, влившись сперва в 51-ю пехотную, а потом в 158-ю Лиозно-Витебскую дивизию.
16 октября нам приказали собрать вещи и готовиться к походу. Сперва нас перебросили на Ленинградское шоссе. Там мы заночевали. А утром пошли маршем через весь город на противоположный конец.
То и дело начинали реветь сирены, возвещая, что на Москву летят мессеры, и надо спасаться в бомбоубежищах, а кто входит в пожарную дружину, должен взять длинные щипцы, лезть на крышу и приготовиться сбрасывать зажигательные бомбы в ящики с песком. Радио то предлагало послушать выступление какого-либо ответственного товарища, а вместо этого включало залихватскую музыку, то неожиданно умолкало. Некоторые потерявшие голову хозяйственники раскрывали двери продовольственных складов и раздавали их содержимое кому попало, чтобы не доставалось врагу. Пополз слушок, что взорвут метро.
То и дело начинали реветь сирены, возвещая, что на Москву летят мессеры, и надо спасаться в бомбоубежищах, а кто входит в пожарную дружину, должен взять длинные щипцы, лезть на крышу и приготовиться сбрасывать зажигательные бомбы в ящики с песком. Радио то предлагало послушать выступление какого-либо ответственного товарища, а вместо этого включало залихватскую музыку, то неожиданно умолкало. Некоторые потерявшие голову хозяйственники раскрывали двери продовольственных складов и раздавали их содержимое кому попало, чтобы не доставалось врагу. Пополз слушок, что взорвут метро.
Полк расположился в самой деревне, так как часть изб была брошена эвакуировавшимися хозяевами. Красноармейцы строили блиндажи и рыли окопы и траншеи на подступах к Воронцову. Один из красноармейцев 7-го полка Л.Е. Иоселевич, направленный в полк в составе истребительного батальона Тимирязевского района, рассказал о Воронцове в своих воспоминаниях:
«В Москве делалось все тревожнее. Началась эвакуация ряда учреждений. Появились первые признаки паники. Она нарастала с каждым днем и достигла апогея в ночь с 16 по 17 октября. Неудержимой лавиной фашисты стремились к Москве и уже были совсем близко.
«В Москве делалось все тревожнее. Началась эвакуация ряда учреждений. Появились первые признаки паники. Она нарастала с каждым днем и достигла апогея в ночь с 16 по 17 октября. Неудержимой лавиной фашисты стремились к Москве и уже были совсем близко.
Согласно Плану обороны Москвы, утвержденному 28 октября 1941 года, через Воронцово проходила основная оборонительная полоса Московской зоны обороны (Кунцево, Аминьево, Никольское, Воронцово, Зюзино, Царицыно, Братеево). Ее сооружали военные и москвичи. Воронцово занимал 7-й полк 5-й Московской стрелковой дивизии (впоследствии 158-я Лиозненско-Витебская дивизия)[1].
[1] Безуглый И. С., Пантелеев Н. А., Рыбников Г. И., Томин К. А. Дважды Краснознамённая. М., 1977.
[1] Безуглый И. С., Пантелеев Н. А., Рыбников Г. И., Томин К. А. Дважды Краснознамённая. М., 1977.
Один из крупных населенных пунктов, стоявших на Калужской дороге в черте современного Юго-Западного административного округа – село Воронцово, возникшее после Отечественной войны 1812 года. Вышедшая из Москвы наполеоновская армия уничтожила две деревни, принадлежавшие княгине А.Н. Волконской – Шатилово и Петровскую, поэтому оставшиеся без крова крестьяне временно поселились в ее усадьбе, заняв флигели. После война Шатиловво и Петровская не были восстановлены, а место них напротив усадьбы вдоль калужской дороги была поселена новая деревня Воронцово, по усадебной церкви иногда называвшаяся селом Воронцово-Троицкое. От усадьбы Волконских и их предков князей Репниных сохранился парк с прудами на речке Раменке – один из самых уютных московских парков и ряд построек, в том числе ансамбль парадного въезда, флигели и оранжерея.